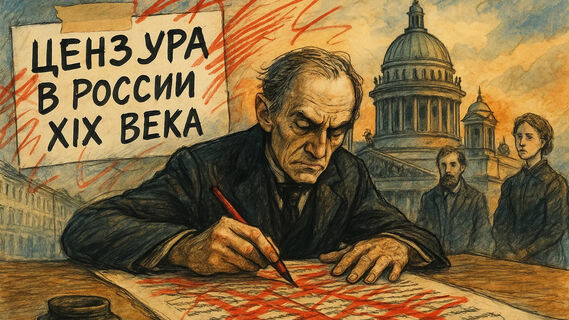Цензура в России XIX века была не просто прихотью чиновников, а одним из столпов государственной идеологии.
Она была призвана охранять триаду “Православие, Самодержавие, Народность” от любых вольнодумных и “вредных” идей.
Именно в Петербурге, столице и главном издательском центре страны, находились ключевые цензурные комитеты, превратившиеся в настоящее поле битвы между писателями и государством.
Машина цензуры: как это работало
Процесс был отлажен до мелочей. Любая рукопись, предназначенная для печати — от романа до театральной афиши — должна была пройти через горнило цензурного комитета.
-
Главный орган: Санкт-Петербургский цензурный комитет был главным “фильтром” для светской литературы. Кроме него, существовали отдельные ведомства для духовной, военной, иностранной и театральной цензуры.
-
Фигура цензора: цензор был чиновником, от решения которого зависела судьба произведения. Его главной задачей было не найти литературные достоинства, а выявить “крамолу”. Цензоры были людьми разного склада: одни подходили к делу формально, другие — с “творческим” усердием, выискивая скрытые смыслы в самых невинных строках. Главный страх цензора — пропустить что-то, за что потом придется отвечать карьерой. Поэтому он часто перестраховывался, запрещая “на всякий случай”.
-
Вердикт: после прочтения цензор составлял доклад, где указывал все “сомнительные” места. Вердикт мог быть трех видов:
-
“Печатать дозволяется” — полная победа автора.
-
“Печатать с исключениями” — самый частый вариант. Автору приходилось вырезать целые абзацы или переписывать главы.
-
“К печати запретить” — полный запрет.
-
Что было под запретом? Список “смертных грехов”
Список того, что считалось недопустимым, был обширен и со временем только рос.
-
Критика власти: любые сомнения в мудрости монарха, критика правительства, министров или государственной политики были под абсолютным запретом. Знаменитая фраза Пушкина в “Борисе Годунове” — “Народ безмолвствует” — с трудом прошла цензуру, так как намекала на мнение народа, отличное от официального.
-
Религиозное вольнодумство: покушение на авторитет церкви, критика духовенства или сомнения в религиозных догмах немедленно пресекались Духовной цензурой при Синоде.
-
Социальная несправедливость: самой больной темой было крепостное право. “Записки охотника” Тургенева, где крестьяне были показаны как полноценные личности с богатым внутренним миром, стали настоящей бомбой и чудом прошли цензуру.
-
“Безнравственность”: слишком откровенные описания любовных сцен, темы супружеской неверности или что-либо, что могло “поколебать устои семьи”, безжалостно вымарывалось.
-
Пессимизм и “дух сомнения”: пожалуй, самый расплывчатый пункт. Под него подпадало все, что могло вызвать у читателя “мрачные мысли” и неверие в существующий порядок. Вершиной борьбы с “духом сомнения” стал запрет на публикацию “Философического письма” Чаадаева, после которого автора объявили сумасшедшим.
Игра в кошки-мышки: как обходили цензуру
Русская литература не была бы собой, если бы не научилась виртуозно обходить цензурные рогатки.
Эта борьба породила уникальное явление — “эзопов язык”.
-
Намеки и аллегории: писатели научились говорить о злободневных проблемах через иносказания. Салтыков-Щедрин, величайший мастер эзопова языка, писал сказки о глупых медведях-воеводах и кровожадных щуках, в которых каждый читатель безошибочно узнавал реальных чиновников и порядки.
-
Рукописные списки: запрещенные произведения расходились по стране в рукописных копиях. Так вся Россия читала “Горе от ума” Грибоедова, которое десятилетиями не допускали к полной публикации.
-
Заграничные издания: самые смелые произведения, как герценовский “Колокол”, печатались за границей и тайно ввозились в Россию.
Цензура была душителем свободной мысли, заставившим замолчать многих и искалечившим судьбы десятков произведений.
Но, как это ни парадоксально, она же стала и катализатором.
В условиях, когда прямое политическое высказывание было невозможно, литература взяла на себя роль единственной трибуны для общественного диалога.
Именно в борьбе с красным карандашом русский язык отточился до невероятной гибкости, а писатели научились говорить о самом важном между строк, оставив нам в наследство великую литературу, полную скрытых смыслов и вечных вопросов.